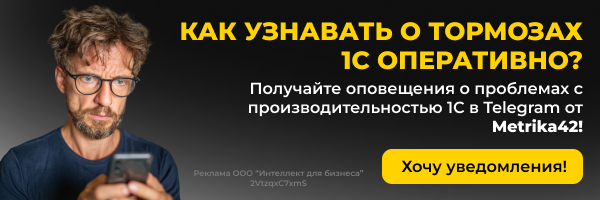


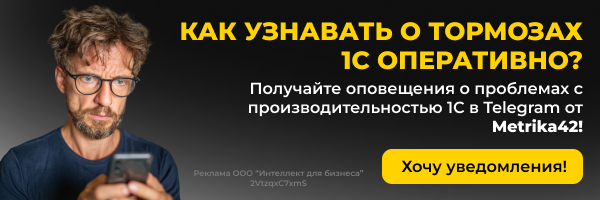
|

|

|
|
OFF: «ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ» Лермонтовская энциклопедия | ☑ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0
Griffin
17.07.09
✎
15:16
|
http://feb-web.ru/feb/lermenc/lre-abc/lre/lre-4521.htm
Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа Сокроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих ушей. «ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ», стих. Л. (1841). Гневная инвектива, одно из самых острых политич. выступлений поэта, восьмистишие Л. является вместе с тем глубоким выражением его социально-филос. взглядов. Высокий накал мысли и чувства задается уже первой строкой. Оскорбительно-дерзкое и вместе с тем проникнутое душевной болью определение родной страны («немытая Россия») представляло собой исключит. по поэтич. выразительности и чрезвычайно емкую историч. характеристику, вместившую в себя всю отсталость, неразвитость, иначе говоря нецивилизованность, современной поэту России. То обстоятельство, что предметом поэтич. осмысления и отвержения стали здесь не столько отд. черты рус. действительности, сколько вся николаевская Россия как социально-историч. целое, само по себе было значит. и новым моментом для рус. гражд. поэзии. В трех последующих стихах мысль автора обогащается и углубляется. Замечательна здесь и та ясность, твердость, с к-рой Л. ставит во главу угла действительно главную черту самодержавно-крепостнич. империи («Страна рабов, страна господ»), и глубина самого понимания рабства. Оно для Л. не только характеристика внешнего положения народа, меры его угнетения и бесправия, но и печальная реальность его внутр., духовно-нравств. состояния в царстве произвола: «И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный (в др. списках: „покорный“, „послушный“) народ». Ср. в «Думе» (1838): «...перед властию — презренные рабы», а также записанные Ю. Ф. Самариным (апр. 1841) слова Л.: «Хуже всего не то, что некоторые люди терпеливо страдают, а то, что огромное большинство страдает, не сознавая этого» (Воспоминания, с. 304). Впервые в отечеств. поэзии интерпретировав «преданность» («покорность», «послушание») деспотич. власти как рабство, Л. во многом предвосхитил то понимание проблемы духовного рабства, к-рое позднее по-разному преломилось в творчестве Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова, А. П. Чехова. И все это, вместе взятое, — крепостное рабство, жандармский произвол и жалкая «преданность» ему — предстает в поэтич. формуле Л. как нечто единое, чему он говорит решительное «прощай». Биографически мотивированное последним отъездом поэта на Кавказ, это «прощай» (как ранее восклицание грибоедовского Чацкого: «Вон из Москвы! сюда я больше не ездок...») ощутимо шире своего непосредств. смысла. С ним входит в стих. вторая из двух его осн. тем — образ личности, страдающей и непримиримой, страстно и бесповоротно порывающей с миром всеобщего рабства. Предельный лаконизм, емкость, разящая афористич. отточенность каждого слова (поистине «железный стих, облитый горечью и злостью») сближают стих. с жанром эпиграммы. Композиц. структура стих. отличается одновременно простотой и сложностью. С одной стороны, оно четко разделено на две половины, каждая с собств. темой: в 1-й строфе это тема России, ее состояния, во 2-й — личности и ее «побега»; в 1-й строфе — объективированная констатация реальности, 2-я повернута в план «субъективный», здесь все окрашено присутствием лирич. «Я» («сокроюсь»). Но с др. стороны, вторая строфа служит прямым продолжением и развитием первой. Называя царских сатрапов «пашами», поэт закрепляет в сознании читателя мысль о «турецком», деспотическом характере «немытой» рус. действительности (ср. «Жалобы турка», 1829), а мотив «всевидящего глаза» и «всеслышаших ушей» конкретизирует, облекает в плоть тему «голубых мундиров». В свою очередь, «субъективная» линия, развернутая преим. во второй части стих., берет исток в самом его зачине — «прощай», дающем произв. Л. идейно-эмоциональный и интонац. настрой. Представляя собой открытое и наиболее концентрированное (хотя, разумеется, далеко не полное и не исключающее совсем иных идейных акцентировок) выражение обществ. позиции «позднего» Л., стих. чрезвычайно существенно для понимания его зрелого творчества. От этого произв. тянутся скрытые нити не только к «Родине» (взаимно контрастируя и дополняя друг друга, оба стих. раскрывают «странную любовь» поэта к родине, новый для рус. лит-ры характер патриотизма), но и к «Пророку», и к «Завещанию», и к «Выхожу один я на дорогу», и к роману «Герой нашего времени». Впитав в себя традиции рус. гражд. поэзии 20—30-х гг. 19 в. (примечательно, что 1-я строка синтаксически и ритмически воспроизводит зачин пушкинского «К морю»: «Прощай, свободная стихия...»), стих. Л. глубиной историч. мысли поэта о единстве нецивилизованности и рабства, энергией отрицания самодержавно-крепостнич. действительности, полнотой внутр. разрыва с нею стало одним из «знамений» того духовного сдвига, к-рый совершался в рус. об-ве и иным выражением к-рого были «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, «Мертвые души» Н. В. Гоголя и письмо В. Г. Белинского к Гоголю, споры западников и славянофилов. Слова «немытая Россия» закрепились в сознании мн. поколений рус. людей как афористич. выражение бедственного состояния родины. Насколько соответствует ситуация, описанная в статье, нынешнему состоянию России? |
|||||||||||||
|
57
Joint
17.07.09
✎
16:26
|
Лермонтов по жизни был в тяжелой депрессухе. Но чувак до конца не въехал, надо было писать так:
Я съел какашку на завтрак, Подруга вчера не дала, И химия мозга сказала - Нам в путь собираться пора. Прощай, немытая Раша, В ней кушать теперь не хочу, И трахаться больше не буду, Поверьте, я не шучу. Быть может, за стеной Кавказа Зохавав смачный апельсин, Нюхнув веселящего газа, Я буду счастлив и один. КГ/АМ |
|||||||||||||
|
58
jarett
17.07.09
✎
16:27
|
ниачом...
КГ/АМ |
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |